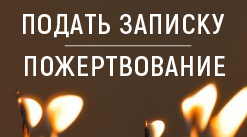Знаменное пение - иконописная музыка. Затонувшая Атлантида
Русские не подозревают каким художественным богатством они владеют.Анри Матисс.
Интересно, что столь высокую оценку искусству русской иконы дал представитель так называемого фовизма, течения во французской живописи, главными принципами которого являлись динамика письма, острота ритмов и интенсивность цвета. Как известно, именно эти формальные принципы искусства нашли яркое воплощение как в русской иконе, так и в знаменном распеве.
Русская икона как духовный и эстетико-художественный феномен была открыта совсем недавно, “черные доски” заговорили в основном в начале ХХ века. Древнерусскую икону спасла от забвения, по-видимому, красота, которую почувствовали в ней люди, хотя и порой достаточно далекие от православия, но имеющие развитый художественый вкус и понимающие язык изобразительного искусства.
В.Васнецов так писал об открытии древнерусской иконы: “Мы должны гордиться нашей древней иконой, нашей древней живописью: тут никого нет выше нас.[1]
В отношении знаменного пения можно сказать, перефразируя В.Васнецова: мы должны гордиться нашим древним знаменным пением, тут никого нет выше нас. Это подтверждают музыкальные медиевисты, ученые, изучающие древнерусское певческое искусство. Они единогласно свидетельствуют, что знаменное пение является искусством того же этико-художественного уровня, что и прославленная русская икона и зодчество, и занимает почетное место в русской и мировой музыкальной культуре.
Эта высокая оценка художественных достоинств знаменного распева касается также и духовных глубин явления, поскольку красота сама по себе, иерархически возвышаясь поступенчато, приближается к Красоте Абсолютной. Красота древнерусской иконы и знаменного распева где-то на самом верху иерархической лестницы – это высшая, духовная красота.
Говорят, что икона не изображает, а являет (Л.А.Успенский). Она являет преображенную, обоженную тварь, являет вечный прославленный лик человека, а не его обычное повседневное лицо. Икона создается в молитве и для молитвы, она сама молитва, творческой силой которой является стремление к Богу как совершенной Красоте и Святости. Задача иконы не в том, чтобы расчувствовать зрителя, вызвать в нем те или иные естественные человеческие эмоции, а в том, чтобы направить на путь преображения все чувства и свойства человеческой природы.
Знаменный распев, или роспев, как писали и, вероятно, говорили, окая, в старину – музыка иконописная, это, можно сказать, звучащая икона. Недаром в одном из богослужебных текстов сказано: “списав, яко на иконе песнь”. Знаменное песнопение – это молитва, выраженная в звуках, музыкально, где мы напрасно будем искать игру эмоциональных тонов. Задача знаменного пения та же, что и у иконы, – не реалистическое отображение внутренней жизни земного человека с его переживаниями и чувствованиями, а очищение души от страстей, отражение образов духовного, невидимого мира.
Еще на заре христианства св. Климент Александрийский призвал изгнать из церковного пения хроматические мелодии, используемые в светской музыке особенно при изображении человеческих эмоций. В знаменном распеве нет изнеживающих хроматизмов, звукоряд его диатоничен (строго говоря, при широком диапазоне мелодии это миксодиатоника), то есть образуется последовательностью основных ступеней лада, отсюда – строгость, величие и бесстрастность напева. Это поистине надмирная музыка. И если иконе присуще катарсическое (очистительное) начало, то знаменному распеву это свойство присуще в высшей степени, поскольку музыкальное искусство по своей природе более активно, чем изобразительное и способно воздействовать на самые сокровенные стороны человеческой природы.
 Современное же церковное партесное пение, имеющее язык светского западного музыкального искусства реалистического направления, снова, как во времена язычества, использует хроматические лады, отвергнутые еще древней Церковью.
Современное же церковное партесное пение, имеющее язык светского западного музыкального искусства реалистического направления, снова, как во времена язычества, использует хроматические лады, отвергнутые еще древней Церковью.Истинно церковное искусство всегда строго канонично. Иконописный канон определяет не только сюжет иконы, но и средства изображения. Православная икона, вобщем, плоскостна, двухмерна, поскольку объем, пространство неминуемо связаны с понятием материальности, плоти видимого мира, но плоть, как известно из Писания, “противится духу”, “плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия” (1 Кор. 15, 50), поэтому все, что напоминает тленную плоть человека противно самой природе иконы. Именно поэтому мирской портрет святого не может быть его иконой, поскольку отражает не преображенное, а житейское, плотское его состояние. И если “Никон...умыслил, будто живые писать”, в чем обличал его протопоп Аввáкум, то это, конечно, грубое непонимание духовной сущности иконы.
Богослужебно-певческий канон во многом аналогичен иконописному. Мелодический рисунок русского знаменного пения, благодаря одноголосию, также, можно сказать, плоскостен, в противоположность объемному звучанию аккордов многоголосного пения, дающему ощущение пространства, материальности. Вселенская Церковь с самого начала своего существования не знала многоголосного пения, а современная греческая церковь сохранила одноголосие и до наших дней.
В Большом Потребнике патриарха Филарета (первая половина XVII века) существует прямой запрет на многоголосный стиль пения: “Ниже некими доброгласии, неприличными церковному составлению и последованию (поют), якова же суть мусикийская пения и излишняя различия гласовом (италийских разногласий любителю, внимай). Ведомо ти буди и сие правило, како возбраняет органы и прегудная пения”. Одноголосие – принципиальное свойство чисто модальной музыкальной системы, каковой и является знаменный распев.
Именно монодийный стиль пения позволил создать иконописную музыку, русское знаменное пение, включающее в себя столповой, путевой и демественный распевы с их модификациями малого, среднего (обычного), и больших распевов. Это пение повсеместно звучало на Руси с начала принятия христианства и до конца XVII века, а на периферии и позже. Временем начала борьбы со знаменным пением, возглавленной царем и патриархом (что с полным основанием можно квалифицировать как музыкальное иконоборчество), является период никоно-алексеевской “реформы”, то есть середина XVII века.
Аналогично плотному письму и интенсивности цвета каноничной иконы одноголосный стиль пения позволяет создать плотное, интенсивное звучание, что обеспечивает активное суггестивное воздействие на слушателя. Одноголосие особенно способствет концентрации ума и внимания, само слово “унисон” (единение, согласие) свидетельствует о тенденции к интроверзии, то есть центростремительном направлении ума, в противоположность экстраверзии, рассеянности, разбросанности. Эти специфические особенности монодийного пения полностью соответствуют православно-богословскому учению о внимании и молитве и призыву прославлять Бога “едиными устами и единым сердцем”.
Знаменный распев характерен попевочной техникой в отличие от западноевропейской музыки, основанной на личностно-субъективном композиторском творчестве.
Как уже отмечалось, красота иерархична, она присутствует на всех уровнях бытия. И мирская живопись, и музыка могут быть прекрасны в своем роде, однако их приемы и средства, призванные изображать либо иллюзию земной реальности, либо многообразный мир человеческих эмоций, переживаний и страстей, непригодны для церковной иконописи и богослужебного пения. Так, если трехмерное пространство в мирской картине создается иллюзией пространственной глубины, то иллюзия в иконе недопустима в силу самой ее природы и назначения. Икона преимущественно плоскостна, двухмерна и более того, вместо пространственной перспективы в ней часто можно увидеть явление так называемой обратной перспективы, когда предметы, изображенные на первом плане, оказываются значительно меньше тех, которые изображены за ними, а удаленные предметы пишутся большими. Иконописный канон также требует, чтобы в изображении не было игры света и тени, ибо Бог есть Свет и в Нем нет никакой тьмы.[2]
Нет игры света и тени также и в знаменном пении в соответствии с каноном певческого церковного искусства. И наоборот, в западноевропейской мажоро-минорной тональной музыкальной системе мажор обычно ассоциируется со светом, а минор – с тенью; более того, ощущение цветовых изменений возникает также при модуляциях, то есть при переходах из одной тональности в другую. Хотя цветовосприятие тональностей достаточно субъективно, и музыканты, обладающие “цветным” слухом, не всегда одинаково воспринимают тональности по окраске (например, для Римского-Корсакова тональность до-мажор был связана с белым цветом, а для Скрябина – с красным), однако установлено, что различие окраски между тональностями несомненно существует, а, значит, и смена тональной окраски, при музыкальных модуляциях создает определенный колористический эффект.
Будучи модальной музыкальной системой, не имея “сквозного тонального тяготения”(Ю.Холопов), русский знаменный распев свободен также от модуляций и связанной с ними цветовой игры. Знаменные песнопения имеют ровную, приглушенную матовую окраску, что вполне соответствует спокойному и величественному характеру православного богослужения.
Говоря о связи между звуком и цветом, которая была известна еще народам древности, следует также отметить, что в многоголосной музыке созвучия сами по себе имеют определенную окраску, например, уменьшенные септаккорды, увеличенные трезвучия, секундаккорды и им подобные созвучия характерны сложным сочетанием цветов. Некоторые музыканты различают по колориту диезные тональности (яркие, насыщенные по цвету) и бемольные (металлические, со стальным блеском). Хроматические – диезные – ступени звукоряда также воспринимаются как окрашенные, и изгнание хроматизмов (цвет, окраска – в переводе с греческого) из богослужебного пения в первые века христианства, несомненно, способствовало установлению более ровного и спокойного колорита звучания церковного хора. Античная эстетика оценивала хроматический строй как “изящный”, “обладающий нежной прелестью”, способный доставлять наслаждение слушателям, но именно поэтому, как считал св. Климент Александрийский, он и не соответствует духу христианского богослужения.
Русское знаменное пение, развивавшееся в русле святоотеческого учения, базируется на диатоническом строе, чуждом изнеженности и расслабленности, вполне соответствующем мужественному характеру православного мироощущения.
Шедевры древнерусской музыки, как и древние иконы, пленяют своей величественной простотой, спокойствием движения, четким чеканным ритмом, законченностью построения, вытекающим из совершенной внутренней гармонии.
 О типологических параллелях в формообразующих принципах иконописи и знаменного распева допетровской Руси говорит, например, отзыв об иконе св. Иоанна Предтечи XVI века: “Лоб, нос, подбородок как бы высечены из камня сильными и точными ударами резца”. [3] Столь же динамично и совершенно письмо Сольвычегодской иконы Богородицы XVI в. – это, можно сказать, знаменный распев в красках и линиях с его острыми синкопами и чеканным ритмом. Кстати сказать, Сольвычегодск в XVI-XVII вв. являлся центром школы усольского знаменного пения, одного из ведущих творческих направлений русского церковного певческого искусства.
О типологических параллелях в формообразующих принципах иконописи и знаменного распева допетровской Руси говорит, например, отзыв об иконе св. Иоанна Предтечи XVI века: “Лоб, нос, подбородок как бы высечены из камня сильными и точными ударами резца”. [3] Столь же динамично и совершенно письмо Сольвычегодской иконы Богородицы XVI в. – это, можно сказать, знаменный распев в красках и линиях с его острыми синкопами и чеканным ритмом. Кстати сказать, Сольвычегодск в XVI-XVII вв. являлся центром школы усольского знаменного пения, одного из ведущих творческих направлений русского церковного певческого искусства.Когда научились понимать достаточно сложный и утонченный язык древней иконописи, выявилась несостоятельность рассуждений о ее якобы примитивности. Не менее сложны и своеобразны, несмотря на одноголосие, законы древнерусского музыкального искусства, и мнения о его примитивности и однообразии также несостоятельны. Исследователи еще прошлого века отмечали “изумительное богатство, свободу и разнообразие ритма и совершенно своеобразное голосоведение”.[4]
Указывая на первостепенную роль ритма в знаменном распеве, современный музыковед В.Н.Холопова пишет, что “по объему материала, поименованного специальными названиями, знаменные ритмоформулы не имеют аналогов в современной им западноевропейской ритмике. В культуре Европы их можно сравнить лишь с античными стопами и стихами, классикой европейского ритма. Не уступая последним в количестве ритмоформулы Древней Руси превосходят их разнообразием принципов организации, составляя самобытную ритмическую культуру, пока еще совершенно неоцененную... Основной столповой распев по своему ритмическому течению сложен, многообразен, художественно “искусен”.[5]
Знаменный (столповой) распев – это основной и старейший вид древнерусского церковного пения, существующий и поныне. Поэтому, говоря о русском богослужебном пении, часто имеют ввиду прежде всего собственно знаменный распев.
В течение многих веков трудами в основном безымянных музыкантов-распевщиков создавался “монументальнейший свод мелодических сокровищ”, годовой цикл богослужебного русского знаменного пения. Говоря о необходимости дальнейших исследований в области древнерусской музыки, один из современных музыковедов писал: “Быть может, дальнейшие розыски в этом направлении позволят установить существование в музыке творческих личностей такого масштаба, как Андрей Рублев и Феофан Грек или гениальные создатели храма Василия Блаженного Постник и Барма”.[6]
Можно с уверенностью сказать, что творческие личности такого же уровня, как Андрей Рублев, Дионисий или Феофан Грек существовали и в древнерусской музыке. Духовный уровень эпохи в основном одинаково отражается во всех искусствах, и если в допетровской Руси были созданы высокие шедевры иконописи и зодчества, то необходимо должны существовать и столь же значительные шедевры музыкального творчества той эпохи.
Говоря конкретно, о шедеврах знаменного пения, вероятно, можно указать на такие песнопения, как стихира на литии восьмого гласа “Днесь тварь просвещается” из службы Богоявлению, стихира тоже восьмого гласа “Днесь неприкосновенный существом” из службы Воздвижению Креста, “Блажен муж” демеством, Евангельские стихиры большого распева перевода Федора Христианина, блаженны большого распева, опубликованные М.Бражниковым в переводе на линейную нотацию, недавно расшифрованные догматики большого распева и т.д. Список предполагаемых шедевров знаменного пения можно значительно продолжить, в годовом певческом цикле пяти Синодальных сборников знаменного пения, печатавшихся вплоть до 1917 года, можно насчитать около пятидесяти выдающихся из общего ряда песнопений.
Но ведь, как известно, расшифровано всего лишь около 50 процентов пометных, то есть читаемых, знаменных рукописей конца XVI-XVII веков. Какие же шедевры скрыты в нерасшифрованной части пометного знамени, а главное, в пока еще нечитаемых рукописях беспометного периода, охватывающего шесть ( ! ) веков, можно лишь предполагать. Во всяком случае – это заманчивая перспектива, о которой неоднократно напоминал М.Бражников, призывая активизировать усилия в изучении древнерусского пения.
Немые пока крюковые рукописи шестисот лет русского знаменного пения с предполагаемыми в них музыкальными кладами волнуют воображение, кажется, более на Западе, чем у нас дома. Западные ученые успешно занимаются исследованиями древнерусской музыки, несмотря на немалые затруднения в связи с тем, что 99 процентов певческих рукописей находится в России. Более того, западная наука, благодаря своим успехам в расшифровке ранневизантийских нотаций предлагает ряд методов для расшифровки древних русских крюковых рукописей.[7]
Если М.Бражников в 1966 году писал, что у нас очень мало делается в направлении изучения древнерусского музыкального наследия, то положение мало изменилось и в наши дни. В 1992 г. в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского Корсакова была открыта Кафедра древнерусского певческого искусства, однако, на наш взгляд, этого недостаточно. По-видимому, нужен новый зарубежный авторитет вроде Анри Матисса, который заявит уже о знаменном распеве: “Русские не подозревают, каким художественным богатством они владеют”.
По древнегреческому преданию Атлантида – это огромный и богатый остров или материк с высокоразвитой человеческой цивилизацией и культурой, опустившийся со всеми своими богатствами в результате землетрясения на дно Атлантического океана. Поиски полулегендарной Атлантиды с ее сокровищами не прекращаются и в наши дни.
Русский знаменный распев – это духовная Атлантида, погрузившаяся со своими богатствами в волнах истории относительно недавно, всего лишь около трех веков назад. Роль землетрясения сыграли революционные преобразования, известные в истории под названием никоно-алексеевской “реформы”. Огромный музыкальный мир высочайшего художественного уровня и вдохновения был вычеркнут из мировой цивилизации.
Если одним из величайших открытий XX века в плане духовном и художественном Л.А. Успенский считает открытие православной иконы как одного из величайших сокровищ мирового искусства и объективного свидетельства о Православии, то, по-видимому, одним из величайших открытий века грядущего будет открытие русского знаменного распева.
Н.Кожевникова предвосхищает будущее, когда уподобляет открытия М.Бражникова в древнерусской музыкальной культуре открытию православной иконы. Собственно открытия знаменного пения пока еще не произошло, Бражников лишь указал на это сокровище, рассказал о нем и собрал достаточно большой подготовительный материал для будущих исследований. При участии М.Бражникова горстка драгоценностей из всего “монументальнейшего свода мелодических сокровищ” была представлена слушателям хором А.Юрлова. После Юрлова достаточно убедительных хоровых интерпретаций одноголосного знаменного пения, можно сказать, не было.
Если открытие иконы не было каким-то единовременным актом, но происходило медленное, постепенное проникновение в ее художественный и духовный смысл, то открытие знаменного распева возможно также только путем постепенной музыкально-психологической адаптации, постепенного вживания в ладово-интонационный строй древнерусской модальной музыкальной системы, столь отличной от привычной нам мажоро-минорной европейской тональной музыки. Современный слушатель порой плохо воспринимает знаменный распев по причине скудости своего “слухового запаса” знаменных интонаций, непривычных мелодических оборотов модальной музыкальной системы с ее логикой линеарно-попевочного развития, где вместо “сквозного тонального тяготения” используется принцип опевания опорных тонов.
Проблема скудости “слухового запаса” знаменных интонаций решается весьма просто – следует больше слушать и петь знаменных песнопений.
Если Византия богословствовала по преимуществу словом, то Россия – образом. Восприняв христианство от греков, русские, молодой народ, не были отягощены наследием многовековой античной культуры с ее последующим влиянием на позднейшее искусство, и, может быть, поэтому Руси дано было именно в художественном образе выразить то, что было главным в византийском богословии этого периода. Именно на русской почве православное христианство практически нашло наиболее полное воплощение как в жизни, так и в искусстве. Древнерусская культура, до недавних пор несправедливо объявляемая “культурой великого молчания”, потому и не создала богословия в схоластической дискурсивной форме, поскольку создала икону и знаменный распев, и не только как формы художественного мышления, а как проявления самой христианской жизни. “В пределах художественного языка именно России дано было явить глубину содержания иконы, высшую степень ее духоносности”, – пишет Л.А.Успенский. Но, добавим, может быть, еще более высокая степень духоносности явлена Россией на языке музыкальном, в знаменном пении.
“Именно в русском искусстве достигнуто наиболее адекватное выражение внутренней гармонии человека, примиренного с Богом, с самим собою и с миром, наглядное показание того, что исихасты называют “священным безмолвием”. В знаменном пении образ “священного безмолвия” наиболее полно передают произведения так называемого большого распева, одной из ветвей основного, столпового знаменного распева.
При необычайной глубине содержания русская икона “по-детски радостна и легка, полна безмятежного покоя и теплоты. И можно утверждать, что нигде жизнерадостное и жизнеутверждающее христианское мировоззрение не нашло столь яркого выражения, как в русской иконе” (Л.А.Успенский).[8]
Не менее ярко, а может быть, и более, светлое жизнеутверждающее начало и внутренняя гармония выражены в русском знаменном пении. Говорить о суровости, мрачности, почти траурности древнерусской музыки можно лишь по невежеству. Отсутствие чувственного сентиментализма и изнеженных хроматических гармоний не есть признак суровости и мрачности, а признак духовного здоровья, соответствующего христианскому “мужественному умонастроению” (св. Климент Александрийский).
Даже светское истинно великое искусство – вневременно, оно на все века. Истинно церковное искусство вневременно уже по своей природе, поскольку являет и отражает вечные истины, его нельзя ставить в зависимость от эпохи и моды, как это делает римокатолическая церковь и современная наука, считающая, что с исчезновением средневековой культуры ушла в прошлое и каноничная икона и знаменное пение. К сожалению, пишет Л.А.Успенский, “с усвоением западного искусства в Православии оказалась усвоенной и эта установка”.[9]
Впрочем, в изданной в 1983 году издательством Московской Патриархии “Настольной книге священнослужителя” написано: “Православный церковный образ, икона, определяется не как искусство той или иной исторической эпохи, или как выражение национальных особенностей того или иного народа, а исключительно соответствием своему назначению, столь же вселенскому, как само Православие”.[10]
Во времена VII-го Вселенского Собора, подведшего черту под эпохой иконоборчества, художественный язык Церкви был тем же самым, что и позже, пусть еще и недостаточно очищенным и целенаправленным.
“Изначала вырабатываемый Церковью художественный язык иконы, – пишет Л.А.Успенский, – становится достоянием христианских народов, вне каких-либо национальных, социальных и культурных границ, потому что единство его достигается не общностью культуры и не административными мерами, а общностью веры и мировоззрения... “Стиль” иконы был достоянием всего христианского мира на протяжении тысячи лет его истории, как на Востоке, так и на Западе: другого “стиля” не было”.[11]
То же самое можно сказать и о церковно-певческом искусстве, имеющем единые общие корни у различных христианских народов, как доказывают иследования западных медиевистов. Э.Веллес утверждает, что по крайней мере до IX века церковный стиль пения на Западе был таким же, как и на Востоке, приводя в доказательство наличие большого количества двуязычных церковных песнопений того времени на греческом и латинском языках, имеющих одну и ту же мелодию.[12]
При всем резком ритмико-интонационном различии византийского и русского знаменного пения исследования Э.Веллеса и Г.Тильярда позволяют сделать выводы о наличии в них общих типологических принципов – одноголосия, диатонического звукоряда и попевочной структуры. Эти же принципы присущи сербскому и болгарскому богослужебному пению, являющимися как византийское, так и древнерусское (допетровское) модальными музыкальными системами. Именно эти принципы, этот стиль церковного пения приняли русские от греков, по-видимому, через болгар (Иоакимовская летопись), вместе с христианской верой, и эти принципы музыкального искусства вселенской Церкви стали основополагающими для русского знаменного пения на многие века его развития.
Если художественный язык церковного искусства и подвержен изменениям, то это изменения “внутри иконного ²стиля², как мы видим это на протяжении почти двухтысячелетней его истории”(Л.А.Успенский).
Однако отношение к иконе как к одной из возможных форм церковного искуства приводит к тому, что “для большинства верующих, духовенства и епископата никакого открытия ее, собственно не произошло”. То же самое можно сказать и о русском знаменном пении, открытие знаменного распева, борьба за него еще только начинается.
Борьба за церковный образ есть по сути борьба за веру, борьба за Православие. Если заимствованное живописное реалистическое направление церковного изобразительного искусства внесло лжесвидетельство о Православии (свящ. Павел Флоренский), то это лжесвидетельство, по словам Л.А.Успенского, “могло только утверждать неверующих в неверии, а верующим внушать искаженное понимание о Православии и способствовать расцерковлению сознания”.
После Торжества Православия (IX в.) иконоборческая ересь не была изжита окончательно, она тлеет все время и выливается наружу во все последующие века, изменяя свою личину, меняя свои формы. Иконоборчество может быть не только злостным и открытым, пользуясь непониманием и равнодушием, оно может быть и бессознательным, непреднамеренным и даже “благочестивым”. Однако любое иконоборчество, в каких бы формах оно ни проявлялось, способствует расцерковлению Церкви.
Борьба за образ Божий никогда не прекращалась, “а в новое время, – пишет Л.А.Успенский, – особенно обостряется потому, что иконоборчество проявляется не только в намеренном уничтожении икон и в отказе от них в ересях протестанствующего типа; оно сказывается еще и в стремлении к уничтожению образа Божия в человеке, в самых различных экономических, социальных, философских и других идеологиях”.[13]
Борьба с Красотой, в попытках создать культ безобразного, – иконоборчество наших дней, точнее, крайняя степень богоборчества, ибо нецерковный мир, вообще теряющий чувство красоты, безнадежен, поскольку утрачивается последняя возможность постижения Бога хотя бы через многоступенчатую иерархию красоты через законы прекрасного.
Красоту православной иконы (образа) и знаменного распева противопоставить безобразию (без-образию), распаду, разложению, хаосу современного мира с его культурой – таков один из девизов борьбы за возрождение иконы и русского знаменного пения, что является жизненной необходимостью нашего времени.
[1] Маковская С. Иконописцы и художники. Журнал “Русская жизнь”, 3 ноября 1965 г., № 5940.С.4. – Цит. по: Успенский Л.А. Указ. соч. С. 174.
[2] Настольная книга священнослужителя. Т.4. М., 1983. С.57.
[3] Евсеева Л.М. Сергеев В.Н. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. (Путеводитель). М., 1971. С. 49.
[4] Смоленский С. Азбука знаменного пения. Казань. 1888.
[5] Холопова. Указ. соч.
[6] Келдыш Ю. Об изучении древнерусского певческого искусства. // Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971. С.15. Предисловие.
[7] Белоненко А.С. М.В.Бражников – исследователь древнерусской профессиональной музыки. // Проблемы истории и теории древнерусской музыки. Л., 1978.
[8] Успенский Л.А. Богословие иконы православной Церкви. Париж. 1989. С.223.
[9] Там же. С.419.
[10] Настольная книга... С.171.
[11] Успенский Л.А. Указ. соч. С.405.
[12] Wellesz Egon. Melody construction in Byzantine chant. Oxford (Belgrade – 1961). P. 139.
[13] Успенский Л.А. Указ. соч. С. 430.
Борис Павлович Кутузов, регент хора Спасского собора Андроникова монастыря (г. Москва)